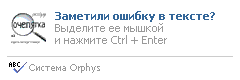Куранова Ольга Владимировна. Одна городская история. Воспоминания о Борисе Николаевиче Сычёве // Журнал "Дамаскин" 1(20) 2012
 Ольга Куранова
Ольга Куранова
Одна городская история
автобиографические заметки
***
В город Горький мы приехали в середине семидесятых. Со старинной, необыкновенно уютной улицы Славянской, где недолго пожили первое время, семья наша переселилась на Ковалиху, и стали мы первыми жильцами новенькой высотки, среди таких же, построенных «лесенкой».
Детство-отрочество было в самом разгаре, и я прекрасно помню себя, счастливую, зимой, в сугробе, после весёлого катанья с ковалихинских гор. На дворе ещё не поздно, но зимние быстрые сумерки уже притащили синее звёздное покрывало. Счастье – беззаботно лежать на снегу, вверх лицом, раскинув руки и наблюдая, как в огромном твоём доме зажигаются огни. У многих, наверное, найдётся похожее воспоминание из детства. А вот следующий эпизод моей памяти – смею думать, уникальный, и отношение имеет к нижегородской (а точнее, горьковской) истории.
Борис Николаевич… Городской чудак конца семидесятых, высокий странный человек. Как поговаривали взрослые, – «вроде как не в себе». А нам, подросткам, после таких разговоров любопытно было его на улице встретить – интересно и даже страшновато. Конечно, узнав его поближе – волею судьбы, – я его сумасшедшим уже не считала.
Жил Борис Николаевич в маленьком деревянном домике, родительском, без каких-либо удобств, с дровяной печкой и керосинкой, – на улице Семашко, что спускается на Ковалиху с площади Свободы. Был мастером на все руки и, что особенно ценили, – часовщиком. При встречах на улице действительно выглядел необычно, особенно зимой. В любые холода можно было видеть его бодро шагающим в каких-то сандалиях на босу ногу, одетым более чем легко по зимнему времени – в чёрную майку на вытянутых бретелях и коротковатые штаны или шаровары. Конечно, он привлекал внимание встречных – и одеянием, и точёной, сильной и жилистой фигурой. Это был человек не молодого, но совершенно неопределимого возраста, по-своему красивый, смуглый; с лицом, всегда опалённым солнцем и обветренным. Знакомых своих он при встрече приветствовал иной раз низким поклоном. И это тоже заносилось в «список» его странностей. Ещё более удивлял он посетителей своего домика – тех, что попадали к нему впервые (завсегдатаи привыкли): мог встретить в одном лишь затрапезном длинном рабочем фартуке, на голое тело, то есть практически «в чём мать родила». А мог быть и одет – как обычно, по-спартански. На груди всегда поблёскивал скромный – конечно, не священнический, но всё же заметный – крестик на цепочке.
Из семьи нашей мама первая с ним познакомилась. А началось всё с часов. Кто-то маму надоумил, зная, что в доме у нас имеются старинные дедовские настенные часы – красивые, но не действующие: «Сходи-ка к Борису Николаевичу. Он всё может починить».
Преодолев сомнения (всё-таки странный этот Борис Николаевич!), мама пошла. Он с порога, тепло пригласил её в дом – была зима – в комнатку, где за столом, раскрыв большую и, видимо, церковную книгу, сидели ещё двое. Оказалось – студент Московской духовной семинарии и его подруга. Видно было, что мамин визит прервал какое-то общее дело.
Борис Николаевич часы принял. (Кстати, не только часовой механизм починил, но и корпус деревянный подправил. Прошло тридцать лет: часы исправно ходят). А маме сказал: «Не уходите так сразу! Мы Евангелие читаем – нельзя в это время уходить».
Так мама моя, на тот момент мало что понимая, осталась. Как оказалось впоследствии – осталась, чтобы впервые, в сорок неполных лет задуматься о подлинном смысле своей жизни, чтобы дальше, шаг за шагом открывать иной мир. Мир радости, не бессмысленной и пьянящей, но благодарной и глубокой – радости души, открытой Богу, познающей Его, идущей Ему навстречу.
Встреча произошла. И здесь и не здесь. Не в каморке с маленьким оконцем – в душе человеческой…
«Твоя мама ударилась в религию», – частенько слышала я с тех пор от родных и друзей семьи. И поддакивала, и соглашалась, и сокрушалась, не сознавая своей, в сущности предательской, позиции. Да и могло ли быть иначе в те годы и в том моём возрасте?
 Кто знает – скольких людей в безбожное время привёл Борис Николаевич к вере в Бога? Привёл своим участием, твёрдостью убеждений, реальным деланием, а не пустыми глаголами (хотя вначале, несомненно, «было Слово», «и Слово было Бог»). В домушке его, пропахшей керосином, собирались, в основном, женщины и старики. Слушали: он читал Евангелие (Новый Завет), толкования святых отцов, жития их, а порой и проповеди из старых книг, ещё хранившихся по редким религиозным семьям. На «чтениях» мама частенько теперь бывала, компрометируя папу (партийца). А наша печатная машинка «Москва» выстукивала странные и опасные для того времени тексты: «Живый в помощи Вышнего…», «Отче наш», «Буди благословен день и час…» Чудо, что это не вылезло тогда наружу, не нарушило внешнего хода жизни в моей семье, ведь самого Бориса Николаевича «органы» забирали не раз, а в городской газете появлялись заметки о «мракобесе», «сектанте», психически больном «Борьке с Ковалихи». А он всё сносил, терпеливо, мудро, не ожидая новых времён, но, как подлинный христианин, «чая … жизни будущаго века».
Кто знает – скольких людей в безбожное время привёл Борис Николаевич к вере в Бога? Привёл своим участием, твёрдостью убеждений, реальным деланием, а не пустыми глаголами (хотя вначале, несомненно, «было Слово», «и Слово было Бог»). В домушке его, пропахшей керосином, собирались, в основном, женщины и старики. Слушали: он читал Евангелие (Новый Завет), толкования святых отцов, жития их, а порой и проповеди из старых книг, ещё хранившихся по редким религиозным семьям. На «чтениях» мама частенько теперь бывала, компрометируя папу (партийца). А наша печатная машинка «Москва» выстукивала странные и опасные для того времени тексты: «Живый в помощи Вышнего…», «Отче наш», «Буди благословен день и час…» Чудо, что это не вылезло тогда наружу, не нарушило внешнего хода жизни в моей семье, ведь самого Бориса Николаевича «органы» забирали не раз, а в городской газете появлялись заметки о «мракобесе», «сектанте», психически больном «Борьке с Ковалихи». А он всё сносил, терпеливо, мудро, не ожидая новых времён, но, как подлинный христианин, «чая … жизни будущаго века».
По воскресным и праздничным для Церкви дням Борис Николаевич неизменно бывал в Высоковском Свято-Троицком храме. Статная фигура его возвышалась над скоплением прихожан. В семидесятые годы на весь город имелось только три действующих храма, и Высоковский, как и другие, «набивался» до предела. Борис Николаевич всегда был «на подхвате», деятельно участвуя во всех моментах богослужения. У него сформировалась даже негласная и, конечно, добровольная «обязанность» во время службы. Из-за духоты и стеснённости в храме какой-нибудь из старушек непременно становилось плохо. Легко раздвигая толпу и всё видя с высоты своего роста, Борис Николаевич выхватывал ослабевшую бабуленцию, совал под нос ей ватку с нашатырём и, также легко, буквально выносил «на воздух» – «продышаться»…
Спустя столько лет (больше тридцати!) довелось мне прочесть нынешними своими глазами поистине зловещие материалы горьковских газет 1978 года, касавшиеся в том числе и личности Бориса Николаевича Сычёва. «На кого он работает?» – весьма угрожающий по тем временам заголовок в главном городском печатном органе – газете «Горьковская правда». Центральной мишенью статьи был, по счастью, не наш Борис Николаевич, но ему тоже немало досталось. Главным «обвиняемым» стал В. Козулин, всё преступление которого, страшное по формулировке – «ложь и клевета на нашу Родину», заключалось в том, что он слишком активно и всерьёз принялся за дело попытки открытия в Горьком ещё одного храма. Собрав тысячи подписей и убедившись в бессмысленности переписки с советскими властями (она длилась больше года), он передал материалы западным журналистам. Шёл 1977-й, и этим всё сказано. «У Козулина есть и подручные… – сообщала газета. – Среди них выделяются активностью Сычёв Б.Н., 65 лет (Вот я и узнала тогдашний его возраст! – Авт. прим.), и Коняев Н.Н., 47 лет. Этих разных по возрасту людей объединяет общий диагноз – шизофрения. Хроническим заболеванием психики они страдают уже десятки лет. Жители Горького неоднократно встречали на улицах города высокого полуседого мужчину, с худыми волосатыми ногами, единственной одеждой которого были длинные, неопределённого цвета полотняные трусы и крестик на шее. Таков внешний вид Сычёва…»[1]
Не диагноз объединял этих разных по возрасту людей, а простое желание исповедовать свою веру, разделяя её с другими. И Борису Николаевичу не нужны были «лавры» диссидента или политического мученика.
Не мне судить, но, думаю, христианином он был редкостным, настоящим. Одно даже отношение его к собственным родителям поражало. Во время нашего знакомства их уже не было в живых, но молитвенная связь с ними у него не прерывалась, полагаю, ни на день. Не только сам молился о них ежедневно, но каждые сорок дней, снова и снова, годами (наверное, до кончины своей) заказывал поминание в храме, на проскомидии. Воцерковленные люди знают, как это важно – сорокоуст – моление Церкви, священства – о душах тех, кого нет с нами, но кто вечно жив у Бога.
Спрашивается: откуда он брал средства на это? И вообще, на что жил? От государства он «отделился» полностью, даже пенсии не получал. Милостыней никогда не промышлял. – Работал! Не гнушался любой работой, тяжёлой, грязной, трудной – брался. Тонкую – например, починить механизм часовой – имел по случаю, не каждый день. Зато частенько пилил брёвна, колол дрова, умело управляясь и с топором, и с пилою, и с другим мужским инструментом. По заказу рыл погреба, копал грядки на дачах, трудился на постройках гаражей, домов, сараев.
В Высоковской церкви просфоры пекли в дровяной печи (и сейчас, кажется, сохранили эту традицию): Борис Николаевич и по части дров безотказный был у них работник. И воды для водоосвящения до девяноста вёдер иной раз натаскивал в храм – на Рождество, например. Нередко копал могилы. Рассказывали, в конце зимы морозного 1977-го один выдолбил в промёрзлой земле могилу для почившего горьковского владыки Флавиана, который захоронен в ограде Высоковского храма.
При домике Бориса Николаевича, в сарае, имелась скромная кузница, доставшаяся ему от отца. Там он нередко что-то починял, лудил, паял, разбирал и собирал, громыхая железом. Платы за свои труды никогда никому не назначал, только всегда просил поминать его родителей. В собственной семье он был, по его рассказу, седьмым и последним ребёнком. К старости отца и матери остался у них единственным: он их покоил до конца их жизней, он же и хоронил.
Милостив очень был к людям, особенно к пожилым. В морозы бежит к нему старуха из окрестных деревянных «развалюшек» (немало было таких домов на фоне наших благополучных панельных «великанов»). «Борис Николаич, спасай, дров совсем не осталось, топить нечем, замерзаем!» И вот уже снаряжаются самодельные сани, и Борис Николаевич шагает по известному ему какому-то маршруту – к дому, подготовленному на слом. Там можно «добыть» дровец – распилить старые брёвна, доски, после наколоть их помельче. Глядишь, и дотянет бабуля с дровами до весны, до лета. Так он и для своей печи на топку добывал.
Благодарили его за работу кто как мог – приносили и деньги, весьма скромные, и что-то из домашней снеди. Или же хлеб, крупу, чай да сахар, которые тут же «уходили» порой в другие руки, если хозяину казалось, что кому-то «нужнее». «Домашнее» приносили чаще всего женщины. Да, собственно, они и составляли в те годы эту маленькую, сложившуюся общинку.
 Удивительно, но при всех трудностях своего бытия Борис Николаевич всегда излучал радость при встречах. Он словно знал какую-то радостную тайну, носил её в себе, делился ею. Был заботлив и добр к тем, с кем общался, терпелив к тем, кто проявлял открытую агрессию.
Удивительно, но при всех трудностях своего бытия Борис Николаевич всегда излучал радость при встречах. Он словно знал какую-то радостную тайну, носил её в себе, делился ею. Был заботлив и добр к тем, с кем общался, терпелив к тем, кто проявлял открытую агрессию.
Спустя годы я стала понимать (и мама подтвердила мою запоздалую догадку), что не только за проповедью, за новым знанием тянулись к этому человеку. Человеку нужен человек – во все времена. В бедный домик его шли за словом утешения, любви, поддержки. Он не «лил елей», но после беседы с ним, а то и просто двух-трёх ободряющих слов, словно расправлялись крылья, осознавались собственные силы и неодиночество!
Мама утверждает, что даже судьбоносный вопрос – быть или не быть рождённой моей младшей сестре – решался отчасти именно с Борисом Николаевичем. Беременность в возрасте под сорок, при наличии уже троих детей в семье и лёгкого отношения к абортам в те годы, – казалась обречённой. И отец мой, и бабушка, мягко говоря, не обрадовались; а врачи хором советовали маме «не рисковать»! В слезах побежала она в «избушку». Борис Николаевич её сомнениям удивился:
– Кому бы горевать? У тебя крыша над головой есть? Есть. Супруг любимый есть? Есть. Детки хорошие, мама живая, работа рядом с домом. Быть этому ребёночку! И не сомневайся. Помоги тебе, Господи! Я буду молиться, и ты моли Бога, моли Царицу Небесную!
И Мария появилась на свет. Сейчас у неё, любимой и единственной моей сестры (между нами – братья), у самой – двое ребятишек…
Особо замечу: никогда Борис Николаевич не примерял на себя роль старца. Скорее, всю жизнь свою был он воин Христов. Высокий, жилистый, безбородый, коротко стриг волосы на голове, как мне помнится. Но главное, конечно, не внешний спартанский облик, а внутреннее состояние. Скорый на подъём – ради помощи другому человеку; деятельный, имевший минимум потребностей в отношении лично себя. О духовных его трудах не смею и судить…
…И всё же избушку свою он покинул, и город наш тоже. Ходили слухи, что на границе новых времён, в конце 1980-х, навестили его какие-то бандиты, угрожали убить «этого апостола». Реальные факты мне неизвестны. Борис Николаевич решил, видимо, не искушать судьбу, подался искать иной доли. Перебрался, говорили, в сельцо Старково, что в Володарском районе, за Дзержинском. Мама с маленькой Машей его как-то раз навещали. Жил, конечно, при храме, служил звонарём. И оттуда доносились слухи о некоторых его «причудах»: с колокольни не спускался сутками, даже спать ложился там, наверху. В Старково на кладбище он и упокоен. Домик его в Нижнем давно снесён…

Мама моя, поставив нас на ноги и овдовев в начале 1990-х, приняла сначала иноческий (1994), а затем и монашеский постриг и несёт свои труды в монастыре. Обе мы храним молитвенную память о рабе Божием Борисе. А несколько лет назад словно пришла от него светлая «весточка»! От борских друзей попала мне в руки небольшая, с любовью сделанная, чудесная книжечка священника Евгения Юшкова – «Моё поле». Помимо очерков и размышлений есть в ней авторские рисунки, карандашные зарисовки (с юности своей о. Евгений – одарённый художник). Книга раскрылась на очерке и знакомом портрете – Борис Николаевич, он! И подпись: «Нижегородский коваль с Ковалихи, часовых дел мастер Борис Николаевич». Вечная ему память!
2014
***
[1]См.: Коник В. На кого он работает? // «Знамя» (газета), 6 июля 1978 года (перепечатка из газеты «Горьковская правда»).
Публикуется по: